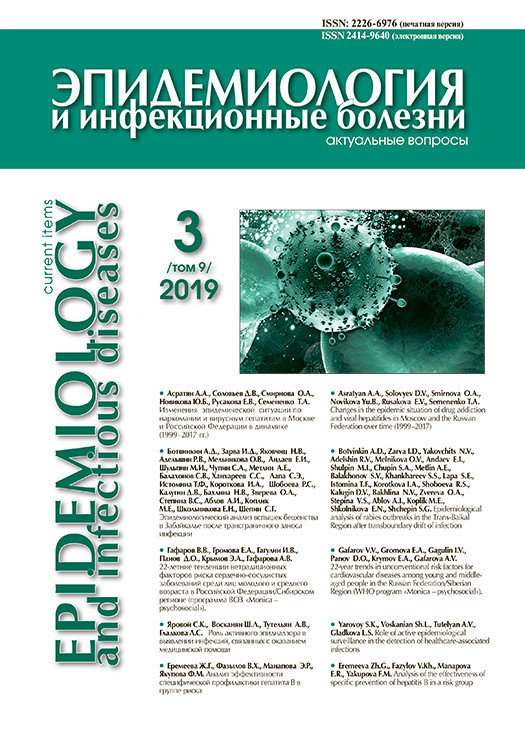В монографии затронуты актуальные для нашего времени малоизученные проблемы, касающиеся взаимоотношений микроорганизмов на организменном и популяционном уровне, существенно влияющих на эпидемический процесс (ЭП); эпидемиологических и клинических проблем при сочетанной инфекционной патологии; причин сезонности отдельных инфекций; эпидемиологической оценки влияния внешних и внутренних факторов на активизацию ЭП тех или иных инфекций.
Монография содержит 5 глав: в главе I рассматриваются понятия интеграционной эпидемиологии; в главе II представлена эпидемиологическая оценка ситуации по инфекциям с гемоконтактным механизмом передачи; глава III посвящена оценке факторов, детерминирующих ЭП инфекций с гемоконтактным механизмом передачи [гепатиты В (ГВ) и С (ГС), ВИЧ-инфекция в Республике Саха (Якутия)]. В главе IV изложены проблемы сочетанных форм ВИЧ-инфекции и ГВ и ГС; в главе V оцениваются факторы, способные повлиять на развитие сочетанных форм ВИЧ-инфекции с парентеральными вирусными гепатитами в клиниках Республики Саха (Якутия).
В главе I рассмотрены положения собственной концепции интеграционно-конкурентного развития ЭП. В соответствии с ней представлен интеграционный метод, некоторые проблемы сочетанных инфекций, в частности, конкурентные взаимоотношения отдельных возбудителей в макроорганизме, и в заключение дается определение интеграционной эпидемиологии.
По мнению авторов, «интеграционная эпидемиология – это собирательное понятие, включающее в себя интеграционный метод как один из приемов эпидемиологической диагностики, и концепцию интеграционно-конкурентного развития ЭП – теоретическую основу этого направления в эпидемиологии».
С нашей точки зрения, весьма неудачное определение. Появляется еще одна «эпидемиология». Обозначая интеграционную эпидемиологию как науку, авторы в своем определении фактически подменяют ее методом (интеграционным), тем самым вольно или невольно существенно ограничивают значение эпидемиологии как науки в целом. Не лучше ли было предлагаемый метод обозначить как один из многих аналитических приемов (способов) эпидемиологии? Более того, и сами авторы мимоходом отмечают «… как один из приемов эпидемиологической диагностики…». То же касается и «… концепции интегрально-конкурентного развития эпидемического процесса…», то есть фактически это также является определенным приемом аналитического раздела.
Представленная авторами концепция интегрально-конкурентного развития ЭП заслуживает ряда уточнений. В соответствии с ней «… инфекции, имеющие общую локализацию и механизм передачи, могут прямо или опосредованно на популяционном уровне влиять на развитие ЭП друг друга, то есть эпидемический процесс каждой из инфекций может запускаться и тормозиться непосредственно микроорганизмами…». Отсюда следует, что концепция охватывает не весь спектр инфекционной патологии, а только определенную его часть. В таком случае она применима только к моноинфекциям и только на популяционном уровне.
Пока слабо изучена проблема ЭП при одновременно развивающихся в популяциях двух и более инфекционных болезнях. По мнению авторов, эти процессы как-то связаны между собой конкурентно-интеграционными отношениями. Однако приведенные результаты собственных наблюдений (с. 8) и ссылки на единичные публикации пока не могут доказать обоснованность таких выводов.
Приведенные в качестве иллюстрации единичные публикации, а также собственные наблюдения авторов на примере развития ЭП ОРЗ и ангины, а затем скарлатины и гриппа, не могут служить доказательной базой предложенной концепции ввиду их малочисленности, а также выбранных нозологий с точки зрения их ЭП как сочетанных на популяционном уровне.
По нашему мнению, предлагаемую концепцию следовало бы представить в более развернутой форме с более доказательной научной базой и более корректным иллюстративным материалом.
В определении интеграционного метода (с. 8) имеется некое противоречие. Суть данного метода «заключается в проведении сопряженного (скоординированного) ретроспективного анализа заболеваемости разными инфекциями по одним и тем же параметрам и в один временной период, позволяет не только определить, как указанные взаимодействия отражаются на проявлениях ЭП, но и выявлять вероятность предполагаемого взаимодействия между паразитарными системами даже при отсутствии соответствующих микробиологических данных (курсив наш. – В.Ш.). Если нет этиологических данных (возбудителя), о чем можно вести речь?
В соответствии с предложенной концепцией и интеграционным методом рассматривается возможность взаимодействия вируса гепатита А (ВГА) и шигелл. Отмечено, «что в общебиологическом плане между вирусами и бактериями существует конкурентное взаимодействие». Отсюда авторы делают вывод, что развитие ЭП может проявляться и на популяционном уровне именно применительно к ВГА и шигеллезам. Более того, по их наблюдениям, «существуют конкурентные взаимоотношения шигелл Флекснера и шигелл Зонне, что влияет на цикличность». По их мнению, можно предполагать существование в макроорганизме защитных механизмов, не позволяющих одновременно развиваться этим инфекциям. К сожалению, конкретных данных о «защитных механизмах» в работе не представлено, что, безусловно, нивелирует доказательность имеющихся у авторов наблюдений.
В монографии затронута тема временного распространения заболеваемости шигеллезами с позиций предложенной концепции. Авторы высказывают мнение «в пользу вероятного повышения биологической активности возбудителей в определенный период времени». А за счет каких факторов (явлений) происходит такая биологическая активность возбудителя? Неизвестно. Высказано предположение: «…возможно за счет внешних или внутренних регуляторных влияний – реализацией генетического кода популяции микроорганизмов». И далее: «…повышение биологической активности возбудителей в разные временные периоды обусловлено конкурентными взаимоотношениями между ними. Такое поведение микроорганизмов вполне закономерно, ибо ни одна из фаз ЭП не дает возбудителю сохраняться как виду». Представленные собственные наблюдения, касающиеся ГА и шигеллезов, единичны и в данном случае недостаточно убедительны.
В плане рассматриваемой концепции очень важно предположение, что на развитие ЭП одной инфекции может оказать влияние и профилактика другой, в отношении которой доказано их взаимодействие на суборганизменном уровне ЭП. По крайней мере, в единичных исследованиях показано, что живые энтеровирусные вакцины способны подавлять некоторые другие вирусы (гриппа, герпеса, аденовирусы) и даже снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями.
Известно, что вакцинация против ГВ не влияет на риск заболевания ГС. Однако авторы на основе своей концепции предполагают такую возможность. В доказательство приводят данные по другим странам, где в результате вакцинации наблюдалось снижение носительства вируса гепатита и числа заболеваний хроническими формами. Аналогичная тенденция присуща и современной эпидемиологии ГС, что подтверждается наблюдениями авторов. При этом они задаются вопросом: а можно ли подобное совпадение в развитии ЭП ГВ и ГС объяснить только снижением риска заражения этими инфекциями? Конечно, не следует считать, что это явление обусловлено формированием у населения специфического иммунитета к вирусу ГС (ВГС). Авторы считают, что это следствие опосредованного взаимодействия вируса ГВ (ВГВ) и ВГС на популяционном уровне, на которое оказала влияние вакцинопрофилактика ГВ.
Результаты другого исследования, приведенные в доказательство предыдущего утверждения, показали, что вакцинопрофилактика полиомиелита в современный период повлияла на снижение заболеваемости ГА. Как известно, вирусы полиомиелита и ВГА довольно близки по своим эпидемиологическим и биологическим характеристикам. При этом авторы полагают, что вирус полиомиелита подавляет репликацию ВГА, что еще и подкреплено их собственными исследованиями.
В монографии справедливо отмечено, что «в эпидемиологии традиционно принято изолированно рассматривать ЭП отдельных инфекций». На этом в настоящее время построена вся система подготовки кадров, а также профилактических и противоэпидемических мероприятий. Рассматривая эту проблему, авторы справедливо подчеркивают, что «…особенностью современного периода распространения инфекций является увеличение в структуре инфекционной заболеваемости доли микст-форм различной этиологии», что полностью согласуется с нашими данными.
При рассмотрении проблемы сочетанных инфекций в монографии сконцентрировано внимание на выяснении взаимодействий возбудителей в микробных ассоциациях, в том числе бактериально-бактериальных (внутривидовых, межвидовых, межродовых и т. д.), бактериально-вирусных, вирусно-вирусных, бактериальных и вирусных с паразитозами и другими возбудителями; изучении патогенеза и механизмов иммунитета, иммунопрофилактики, терапии, факторов риска, их формирования, а также роли в развитии ЭП. Все эти вопросы имеют громадное теоретическое и практическое значение. Они во многом освещены в нашей монографии1 и других публикациях.
Рассматривая течение сочетанных инфекций, авторы подчеркивают, что в их характеристике важен порядок заражения: одновременное или последовательное, что полностью согласуется и с нашими наблюдениями. При сочетанной инфекции, когда в организме человека развивается одновременно несколько возбудителей, усложняется взаимосвязь разных патологических процессов. При этом возможно кардинальное изменение фазы и структуры инфекционного процесса: приведение к его манифестации (с нашей точки зрения – чаще всего) или, наоборот, латентному состоянию (весьма редко), или менять клиническую картину заболевания.
Авторы полагают, что «использование интеграционного подхода к изучению и этого явления позволяет дать более объективную оценку значения формирования сочетанных форм различных инфекций в развитии ЭП». С этим нельзя не согласиться. Тем более, авторы подкрепляют данный тезис примером ВГВ + ВГС и подчеркивают, что при этом ВГВ способен оказывать ингибирующее влияние на развитие гуморального иммунного ответа к ВГС при сочетанной инфекции. Кроме того, коинфекция, как и суперинфекция гепатотропными вирусами, может привести к их интерференции и подавлению репликации как ВГВ, так и ВГС. При одновременном инфицировании различными вирусами гепатита, как правило, активно реплицируется только один из них. Предполагают, что это связано с явлениями интерференции при конкуренции за клетку хозяина. Подтверждением служит и сочетанная инфекция хроническими формами ГС и ГВ, при которых также редко можно обнаружить сразу 2 исследуемых генома. При этом имеют место как ситуация взаимного ингибирования двух геномов, проявляющихся впоследствии изолированным доминированием одного из них, так и единичные случаи, когда оба маркера вирусной репликации (ДНК ВГВ и РНК ВГС) перестают определяться.
Далее авторы все же считают, что сочетанные инфекции «…не случайное явление, а фактор (курсив наш – В.Ш.), способствующий саморегуляции микроорганизмов в условиях формируемых ими биоценозов (с. 89). Почему сочетанные инфекции – это «фактор»? Непонятно, что под этим нужно понимать.
Так все же сочетанные инфекции – это случайное явление или их следует рассматривать «… не как случайно возникшие ассоциации, а с межвидовых экологических позиций». Далее разъяснений, научных обоснований «экологических позиций» и четкого доказательного ответа не последовало. С учетом имеющихся многочисленных данных литературы по сочетанной инфекционной патологии к однозначному (случайное или неслучайное) мнению мы также не пришли. Если рассматривать конкретные клинические случаи сочетанных инфекций, то наиболее понятны они с позиций вида возбудителя, механизма передачи, тропности возбудителя и его экологии, когда их вполне резонно отнести к неслучайному явлению, как, например, брюшной тиф + шигеллез. Еще более убедителен пример клещевых инфекций, когда в одном переносчике (клеще) одновременно обнаруживают 2 и более возбудителя (клинический случай: клещевой энцефалит + иксодовый клещевой боррелиоз + моноцитарный эрлихиоз человека + гранулоцитарный анаплазмоз человека).
А как расценить другие клинические случаи, например: токсоплазмоз + трихономоз + кандидоз + хламидиоз? При этом имеют место разные виды возбудителей (простейшее + гриб + бактерия), разная тропность возбудителя (полиорганное поражение, урогенитальный тракт), различный механизм передачи, значительная разница в сроках инкубационного периода и, наконец, различная экология возбудителя (зооноз + антропоноз). Или другой клинический случай: токсоплазмоз + цитомегаловирусная инфекция + простой герпес + листериоз. В данном случае уже другой набор возбудителей: простейшее + вирус + бактерия, разная тропность возбудителя, различные механизмы передачи (весь существующий спектр) и очень редкое явление по экологии возбудителя, когда в инфекционном процессе одновременно принимают участие зооноз (зооантропоноз) + антропоноз + сапроноз (сапрозооноз).
Таким образом, учитывая позицию авторов монографии, данные литературы, наши клинические примеры и исходя из позиций организменного уровня, скорее всего сочетанные инфекции можно рассматривать как случайное явление, особенно когда они не совпадают по большинству эпидемиологических детерминант (механизму передачи, экологии возбудителя, его тропности и др.). С другой стороны, рассматривая инфекционную патологию в целом на популяционном уровне, приходишь к выводу, что определенная группа сочетанных инфекций – явление явно не случайное. Получается, что в целом его можно обозначить как случайно-неслучайное. Однако все это еще требует дальнейшего изучения и уточнения.
Очень интересно предположение, что полиэтиологичность сочетанных форм инфекций способна развиваться не у всех индивидуумов, а это возможность генетически детерминирована. Однако такое предположение не подкреплено фактическим материалом. К сожалению, при изучении сочетанной инфекционной патологии мы также не рассматривали ее с этих позиций.
Большой интерес представляют результаты исследования, касающиеся сочетанных форм ТБ и ВИЧ-инфекции. Так, авторами установлено, что если летальность от ВИЧ-инфекции в Республике Саха (Якутия) составляет в среднем 1,6%, от ТБ – 4,1%, то от сочетанных форм – 11,9%. Как показывают результаты и других работ, эпидемиологическая опасность лиц с сочетанными формами инфекции выше, чем с моноинфекцией ТБ, «высокую летальность от сочетанных форм можно расценивать как один из вероятных механизмов ингибирующего влияния взаимодействия микобактерий туберкулеза (МБТ) и ВИЧ на развитие ЭП этих нозоформ, т.к. нивелируются потенциальные источники этих инфекций».
Авторы отметили очень важный момент: у ВИЧ-инфицированных ТБ развивается чаще, чем ВИЧ-инфекция – у больных ТБ. По их мнению, это обусловлено тем, что формирование сочетанных форм возможно не только вследствие заражения ТБ ВИЧ-инфицированных, но и в результате того, что заражение ВИЧ способно привести к активизации (манифестированию) латентного ТБ.
Весьма сомнительным выглядит следующее утверждение авторов: «…рост заболеваемости в том или ином регионе ВИЧ-инфекцией, независимо от показателей заболеваемости туберкулезом, сопровождается увеличением числа больных с коинфекцией. В то же время и рост заболеваемости туберкулезом, независимо от уровня заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией, также сопровождается увеличением риска заражения туберкулезом больных с ВИЧ-инфекцией и приводит к повышению числа коинфицированных». В данном случае мы не уверены, что у всех пациентов имело место одновременное инфицирование (коинфицирование). И далее, развивая тему, мы согласны с тем, что ВИЧ и МБТ – 2 патогенетически тесно связанных инфекционных агента, которые взаимодействуют друг с другом опосредованно через определенные структуры. Возбудитель ТБ в сочетании с ВИЧ приобретает у таких лиц новые свойства при действии на них антибактериальных препаратов и активной антиретровирусной терапии. В результате формирования лекарственной устойчивости и мутаций их основные биологические свойства модифицируются, что также приводит к увеличению влияния одной инфекции на другую.
С точки зрения эпидемиологии подчеркнуто, что больные сочетанной инфекцией также опасны как источники инфекции для контактных лиц в очагах, по сравнению с ВИЧ-негативными больными ТБ, что согласуется и с нашими данными.
Таким образом, ВИЧ-инфекция увеличивает восприимчивость к ТБ, способствует активации латентного ТБ и тем самым влияет на активизацию ЭП (рост заболеваемости). Как отмечают авторы, «…в таком случае она оказывает экзальтирующее действие на развитие ЭП туберкулеза, и значит это можно отнести к интеграционной составляющей взаимодействия возбудителей (запуск эпидемического процесса)», что не вызывает никаких возражений.
Одновременно с этим авторы недоумевают, почему же динамика заболеваемости ТБ в Республике Саха имеет тенденцию к снижению, а ВИЧ-инфекцией – к росту, что отмечается и в некоторых других регионах РФ. Авторы считают, что это «…соответствует концепции универсальности глобальных изменений ЭП антропонозных инфекций с разной степенью управляемости». Увы! В данном случае авторы заблуждаются, и причина здесь совершенно в другом.
Анализ документации показал, что имеет место преднамеренное занижение показателей смертности от ТБ и числа впервые заболевших ТБ2. Подтверждением служат результаты исследования, проведенного среди жителей Москвы3, где за последнее десятилетие смертность от вирусных гепатитов возросла в 3,4 раза, от ВИЧ-инфекции – в 5,6 раза, а смертность от ТБ снизилась в 4,3 раза (!?). О причинах ничего не сказано. Однако можно с уверенностью предположить возможность манипулирования в отчетности пунктом «непосредственная причина смерти». А это, в свою очередь, связано с постановкой перед Минздравом России социальной задачи в известном Указе «…снижение смертности от туберкулеза к 2018 г. до 11,8 случаев на 100 тыс. населения»4.
На наш взгляд, ошибочно мнение авторов о якобы современной переоценке фактора наркомании, основанной на результатах собственного анализа распространенности заболеваний ВИЧ-инфекцией, острыми ГВ и ГС только на одной территории (с.14).
В целом авторы весьма скромно представили значение концепции и интеграционного метода в практической деятельности эпидемиолога.
Однако несмотря на сделанные замечания, несогласие с некоторыми сторонами предлагаемой концепции и интеграционного метода, монография, безусловно, представляет интерес для эпидемиологов, инфекционистов, микробиологов, иммунологов и других специалистов как практического звена здравоохранения, так и профессорско-преподавательского корпуса медицинских вузов, а также научных сотрудников профильных НИИ. Она позволяет с новых позиций рассматривать развитие ЭП, дает возможность глубже вникать в отдельные его звенья, детально понять сущность отдельных его проявлений на популяционном уровне. Конечно, предлагаемая концепция требует дальнейшего научного обоснования комплексного подхода для изучения всех детерминант ЭП, а также комплексного изучения межмикробных отношений в макроорганизме.