 Как шутит Валентин Иванович Покровский: «Главная заслуга юбиляра в том, что он дожил до круглой даты», и все юбилейные статьи обычно начинаются одинаково: «выдающийся ученый», «организатор медицинской науки», «маститый деятель» и т. п. Не про них ли шутит сам Валентин Иванович: «На каждом новом юбилее как-будто заранее на своих похоронах присутствуешь: знаешь, кто и что будет говорить, но редко говорят что-то новенькое, даже кое-что путают. Наверное, стареют!».
Как шутит Валентин Иванович Покровский: «Главная заслуга юбиляра в том, что он дожил до круглой даты», и все юбилейные статьи обычно начинаются одинаково: «выдающийся ученый», «организатор медицинской науки», «маститый деятель» и т. п. Не про них ли шутит сам Валентин Иванович: «На каждом новом юбилее как-будто заранее на своих похоронах присутствуешь: знаешь, кто и что будет говорить, но редко говорят что-то новенькое, даже кое-что путают. Наверное, стареют!».
Часто авторы не забывают и о себе напомнить, добавляя: «Валентин Иванович – мой учитель». Но кого считать его учеником? Один из тех, кому он помогал, известен как талантливый организатор, другой – замечательный врач, третий – эпидемиолог-теоретик. Однако сам Валентин Иванович не подходит под узкоконкретные определения.
Поэтому мы пойдем другим путем. Зададим каверзный вопрос: «А что, собственно, заставляет нас вновь говорить и писать лестные слова о Валентине Ивановиче Покровском»? Обычай? Долг? Традиция?
Что в его личности и судьбе заставляет нас вновь возвращаться к этой фигуре? Чем обусловлен его успех?
Крепкое здоровье и сильный ум? Это качества врожденные, унаследованные. Здоровых и умных не так уж мало. Да и что такое ум? Способность запоминать множество информации, пригодной для участия в телевизионных викторинах? Умение перемножать в уме пятизначные числа?
По многим критериям Валентина Ивановича современный просвещенный обыватель может отнести к полным бездарям: он не выучил до приличного уровня ни одного иностранного языка, не умеет водить машину и даже не научился печатать на пишущей машинке, не говоря уж о работе на компьютере. Не умеет играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. Никогда не занимался ни одним видом спорта. Как он без всего этого выжил? Видимо, должны были действовать какие-то особые факторы и возникать ситуации, повлиявшие на его развитие и созревание.
В годы его юности было плоховато с преподаванием английского, так как все учили язык самого опасного недруга, но в дальнейшем немецкий уже не было смысла совершенствовать. Пишущие машинки 50 лет назад были достижением техники, а в быту – роскошью. И спорт был важен чисто практический – пилка дров, посадка картошки, таскание ведер с водой. А потом еще был и бег на «дальние дистанции»: с работы – на работу. И кто из нынешних ученых может сам построить хотя бы сарайчик? А «спортом», которым Валентин Иванович до последнего времени занимался ради удовольствия, но который пока не входит в олимпийскую программу, являлись походы за грибами – пешие переходы до 30 км в день.
С одной стороны, жизнь Валентина Ивановича Покровского – яркий пример работы «социальных лифтов» эпохи социализма, когда выходец из простой семьи «запросто» мог стать руководителем государства, как например, его почти ровесник, крестьянский сын М.С. Горбачев, с которым Валентину Ивановичу довелось встретиться в самый трагический момент истории. Впрочем, «лифты» в те годы, как и сейчас, быстро поднимали только артистов и спортсменов, а жизнь Валентина Ивановича была скорее примером долгого, тяжелого и часто опасного для здоровья восхождения. С другой стороны, не из всякого способного ребенка, ищущего «путь наверх», выходит академик. Но похоже, что Валентин Иванович, в отличие от многих «учеников», и не искал специально этого пути, им двигало что-то другое. Но что?
Валентин Иванович родился в 1929 г. в семье скромных служащих, в 12 лет потерял отца, погибшего в первые месяцы войны. Сам едва не сгорел, когда прямо в погреб, где он спал, попала немецкая бомба-зажигалка, но потом научился ловко гасить эти зажигалки песком и землей. Недоедание, холод, трудовая повинность на лесозаготовках, семейные заботы – все, что испытал русский народ в годы великой войны, все выпало и на долю Валентина Ивановича. Ему приходилось заботиться о домашних животных, торговать на рынке, ездить в южные города, чтобы менять на продукты какую-то «мануфактуру». Однако трудное детство и юность в подмосковном поселке, населенном представителями самых разных социальных групп и национальностей, по всей видимости, способствовали развитию одного из его главных талантов – способности легко находить общий язык с людьми, будь то мужики, интеллигенты или чиновники.
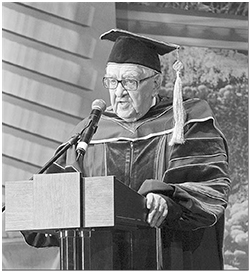 Для его биографии важно, что в отличие от юношей-ровесников, которых трудные обстоятельства заставили бросить учебу, Валентин Иванович был нацелен старорежимными родственниками на высшее образование: в 1946 г. он окончил школу с медалью и поступил в медицинский институт, хотя, как он сам неоднократно признавался, и не чувствовал тогда призвания к медицине. Судя по некоторым его высказываниям о намерении стать дипломатом, он был романтиком, мечтал о путешествиях и приключениях, что, возможно, также оставило след в его характере.
Для его биографии важно, что в отличие от юношей-ровесников, которых трудные обстоятельства заставили бросить учебу, Валентин Иванович был нацелен старорежимными родственниками на высшее образование: в 1946 г. он окончил школу с медалью и поступил в медицинский институт, хотя, как он сам неоднократно признавался, и не чувствовал тогда призвания к медицине. Судя по некоторым его высказываниям о намерении стать дипломатом, он был романтиком, мечтал о путешествиях и приключениях, что, возможно, также оставило след в его характере.
В период учебы в медицинском институте я не вижу ничего необычного. Все мы там получали практически одни и те же знания, некоторые из которых, например, латинские названия всех костей черепа или плюсны, так большинству из нас и не пригодились. Но состав профессоров и преподавателей в его время был выдающимся: немало было дореволюционных профессоров, получивших образование еще в царские времена, и одновременно представителей нового советского поколения, в том числе прошедших школу войны. Были и пострадавшие от сталинского режима. Возможно, что общение со всеми этими разными личностями способствовало развитию его гибкости в оценках людей и умению правильно оценивать сложившуюся общественную ситуацию. Во всяком случае, известна его доброжелательность ко всем людям, независимо от общественного положения.
Все студенты ходили в научные кружки, но не все стали заниматься наукой. И здесь я обратил бы внимание на не совсем обычное начало научного пути Валентина Ивановича. Первая его студенческая работа, кстати опубликованная, была не совсем медицинской: она была посвящена истории кафедры инфекционных болезней Первого Московского медицинского института. Вполне возможно, что такое начало творческого пути заложило основы особого подхода Валентина Ивановича к научной деятельности, привнесло своего рода «исторический взгляд» на развитие науки, который в дальнейшем проявился в его способности предвидения развития ситуации, которую некоторые даже принимали за пророческий дар. Утверждают, что он потом предсказал подъем заболеваемости менингококковой инфекцией, эпидемию холеры, возрастающее значение легионеллеза и т. п. Лично я могу с полной ответственностью засвидетельствовать только то, что он первым обратил внимание на описание нескольких случаев неизвестного заболевания в США, получившего позднее название СПИДа, и затем организовал в Центральном НИИ эпидемиологии работу по его изучению задолго до того, как ВИЧ начал распространяться в России, и пандемия ВИЧ/СПИДа приняла угрожающие масштабы. Впрочем, все пророчества сильны задним числом.
Увлечение медициной четко проявилось у Валентина Ивановича только в ординатуре, когда он стал непосредственным участником лечебного процесса в клинике инфекционных болезней. Обходы, ночные дежурства, ежедневные разборы новых и интересных больных – у всех врачей есть, что вспомнить об этом отрезке жизни, когда на практике формируется будущий специалист. Но Валентин Иванович одновременно начал вести и научные исследования, а к концу ординатуры написал кандидатскую диссертацию. Вклад в науку его труда «Клиническое течение брюшного тифа и состояние некоторых защитных функций организма при лечении синтомицином» сейчас не представляется большим, но тема соответствовала периоду рассвета эры всестороннего изучения действия антибиотиков. Погружение в тему антибиотиков сыграло в дальнейшем большую роль в развитии Валентина Ивановича, и весь опыт работы над кандидатской диссертацией, конечно, был чрезвычайно важен для расширения его практических навыков и научного горизонта.
Для анализа процесса становления Валентина Ивановича как ученого большое значение имеет то, что наряду с традиционным обзором с описанием клиники брюшного тифа (которое никому не мешало бы перечитать), в оригинальной части диссертации мы обнаруживаем микробиологические, иммунологические (серологические и фагоцитарные), неврологические и даже инструментальные методики, в частности, плетизмографию. Например, описана в деталях, выполнявшихся самим автором, стернальная пункция, проводившаяся для получения «костно-мозгового пунктата для бактериологического исследования». В тексте явно ощущается практический опыт и стремление автора поделиться им с читателем: «При прохождении иглы через костную пластинку ощущается характерный хруст и чувство провала, значительно более выраженное, чем при люмбальной и даже субокципитальной пункции». Сейчас все перечисленные процедуры относят к операциям, и их разрешается выполнять только сертифицированным специалистам, но в те времена беспокоить кого-то по таким пустякам было просто неприлично, тем более для Валентина Ивановича. Здесь обнаруживается еще одна его особенность, а именно принцип: прежде чем учить других, научиться самому, то, что он и в последующие годы не приветствовал тенденцию здравоохранения на все более узкую специализацию медиков. Да, конечно, есть прославленные доктора, вся карьера которых сводится к виртуозному выполнению одной и той же операции у десятков тысяч пациентов, но Валентин Иванович, конечно, был не таков, он все время расширял сферу своей деятельности.
 Разумеется, ординатора, написавшего диссертацию, нельзя было не зачислить в штат кафедры инфекционных болезней. А работа на кафедре требовала активного участия в педагогическом процессе. Хотя многие вспоминают, что ассистент Валентин Иванович Покровский «вел у них группу», ярких свидетельств того, что он уже тогда был особо талантливым педагогом, у нас нет. Но длительный опыт работы со студентами, несомненно, был впоследствии использован им в одной из его лучших (с литературно-педагогической точки зрения) работ: учебнике по инфекционным болезням для медицинских училищ. Едва ли в каком-нибудь другом учебнике описание инфекционных болезней дается в таком кратком и понятном виде. И недаром этой книгой всегда пользовались студенты и даже врачи, сдающие кандидатский минимум по инфекционным болезням.
Разумеется, ординатора, написавшего диссертацию, нельзя было не зачислить в штат кафедры инфекционных болезней. А работа на кафедре требовала активного участия в педагогическом процессе. Хотя многие вспоминают, что ассистент Валентин Иванович Покровский «вел у них группу», ярких свидетельств того, что он уже тогда был особо талантливым педагогом, у нас нет. Но длительный опыт работы со студентами, несомненно, был впоследствии использован им в одной из его лучших (с литературно-педагогической точки зрения) работ: учебнике по инфекционным болезням для медицинских училищ. Едва ли в каком-нибудь другом учебнике описание инфекционных болезней дается в таком кратком и понятном виде. И недаром этой книгой всегда пользовались студенты и даже врачи, сдающие кандидатский минимум по инфекционным болезням.
Накопленный опыт пригодился Валентину Ивановичу в работе в отделении менингитов, результатом которой стала докторская диссертация «Гнойные менингиты (клинка диагностика и лечение)». И здесь мы видим способность Валентина Ивановича перешагнуть через сложившиеся стереотипы. Лечение менингитов внутримышечным введением больших доз пенициллина многим тогда казалось безумной авантюрой, и эта работа не только закрепила авторитет Валентина Ивановича как ученого, но и значительно расширила его кругозор. Сопровождающие работу исследования в области микробиологии подвели его к изучению L-форм возбудителя, а дальнейшее изучение менингококковой инфекции – к эпидемиологическим исследованиям.
Административный рост Валентина Ивановича не препятствовал его развитию как ученого, как это часто случалось, в том числе с его «учениками». Напротив, Валентин Иванович использовал его для дальнейшего научного развития. Назначение его директором Центрального НИИ эпидемиологии привело к тому, что, заряжаясь энергией и знаниями от коллектива института, он скоро превратился в ведущего специалиста и в этой области. Под его крылом развивалась не только прикладная эпидемиология, но своего расцвета достигла и теоретическая наука, что выразилось в развитии нескольких научных школ, которые вели в институте открытые дискуссии.
Научный опыт Валентина Ивановича, переросший в интуицию, в последние десятилетия ясно проявился и в том, что он самом раннем этапе поддержал и потом всячески способствовал развитию в Центральном НИИ эпидемиологии молекулярной и генной диагностики инфекционных болезней – новейшего направления медицинской науки, грозящего в скором времени перерасти в генную терапию инфекций и генную вакцинацию.
Главный санитарный врач СССР П.Н. Бургасов, видимо из ревности, не желал признавать Валентина Ивановича эпидемиологом, лишь милостиво признавал его «хорошим клиницистом». Ну, в крайнем случае, «лучшим эпидемиологом среди инфекционистов». Но время показало, что Валентин Иванович, который никогда не разделял эпидемиологию, микробиологию, вирусологию, иммунологию и инфекционные болезни, видел перспективу науки более широко. Проблемы, которые в настоящее время создает административное разделение эпидемиологической и инфекционной службы, а равно и разделение научных учреждений нашего профиля по разным ведомствам, является тому доказательством «от противного». Осложняет работу и стремление нашей научной элиты разделиться по своим мелким, но собственным, отдельным научным обществам, вернее назвать «подобществам». Сможем ли мы когда-нибудь забыть амбиции и объединиться?
Более дискуссионным вопросом биографии Валентина Ивановича является его административная деятельность, в особенности его работа Президентом АМН СССР и Президентом РАМН, которые отняли почти 20 лет его жизни. Тысячи встреч, переговоров, трудных согласований. Финансы, кадры. Кадры, финансы. Письма «туда» и «оттуда», «отсюда» и «сюда». Стоило ли тратить столько энергии на сохранение самостоятельной Российской медицинской академии, которую после его ухода с поста Президента РАМН его последователи так легко отдали? Может быть, было бы лучше для науки и для него самого, если бы вместо бюрократических состязаний он продолжил заниматься непосредственно научными исследованиями? Но на эти вопросы пока едва ли может однозначно ответить сам Валентин Ивановича или кто-нибудь другой. Похоже, однако, что российская медицинская наука без своей собственной академии упала в своем статусе. Кому же досталась чечевичная похлебка?
Впрочем, обо всем вышесказанном, о людях, встречах и разных приключениях, которые-таки случились в его жизни, мы скоро сможем прочитать в самых пикантных подробностях в мемуарах Валентина Ивановича, в которых мы познакомимся с его новой литературной ипостасью.
В итоге нашего краткого научного исследования феномена Валентина Ивановича Покровского мы приходим к выводу, что главными составляющим его успехов были стремление постоянно развивать и расширять свою профессиональную эрудицию. И его непоколебимый оптимизм.
За это мы его и любим!
Академик РАН В.В. Покровский



