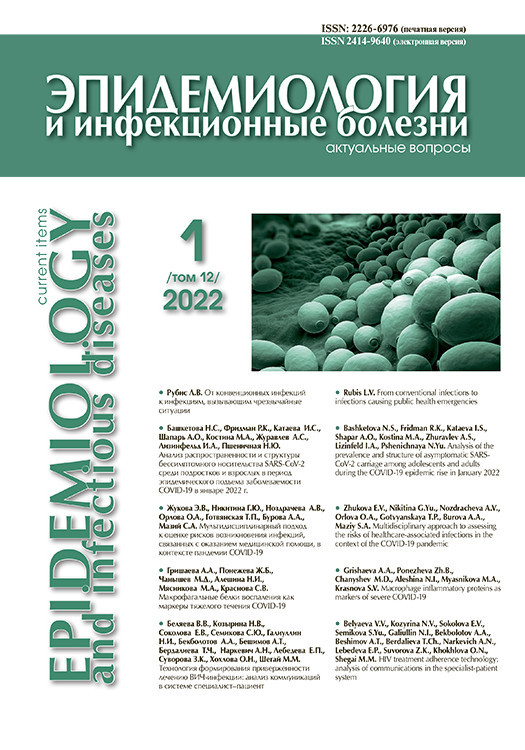В настоящее время мир переживает катастрофическое влияние на все аспекты деятельности человечества пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Глобальное распространение COVID-19, связанное с тесным международным взаимодействием, активной внешней и внутригосударственной миграцией населения, военными конфликтами, продемонстрировало не только потенциальную, но и реальную опасность заноса (завоза) особо опасных инфекций в любой регион мира.
Проблемы, связанные с COVID‑19, отодвинули на второй план другие инфекционные болезни, способные вызывать чрезвычайные ситуации международного масштаба. Одной из таких особо опасных, высококонтагиозных, способных к быстрому антропогенному распространению инфекций является чума (Ч), известная человечеству не менее 25 столетий. Пандемии Ч уносили миллионы человеческих жизней, опустошали города, вызывали гибель государств и исчезновение целых народов [1]. Характеризуя современное состояние заболеваемости Ч в мире, необходимо отметить, что 6743 случаев Ч с летальностью более 13% было зарегистрировано на территории 11 государств Африки, Азии, Южной и Северной Америки только за последнее десятилетие [2]. По данным доступной литературы, в последние годы наиболее сложная эпидемическая ситуация по Ч складывалась на территории Республики Мадагаскар, где в 2017 г. имела место преимущественно городская крупная вспышка легочной Ч, поразившая столицу республики [3]. Участники семинара, состоявшегося в 2018 г. в Париже, высказали мнение о том, что Ч по-прежнему остается угрозой для человечества, призывали в срочном порядке повысить приоритетность исследований в области изучения этой «забытой» инфекции и ее вспышку на Мадагаскаре в 2017 г. рассматривать как переломный момент в эпидемиологии этого заболевания [4].
Неспокойной по Ч остается ситуация и в странах, непосредственно граничащих с Россией. Высокая эпизоотическая активность, регистрировавшаяся в последние годы в некоторых природных очагах на территории Республики Казахстан и в Киргизской Республике, прогнозировалась и на 2021 г. [2].
Из существующих в Российской Федерации 11 природных очагов Ч наибольшую активность в последнее десятилетие проявляют Горно-Алтайский и Тувинский. Эпидемиологическое благополучие по Ч на этих территориях обеспечивается в результате выполнения научно обоснованного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий, включающих своевременное проведение в плановом порядке вакцинации и ревакцинации населения, постоянно проживающего на территории очага, и временного, прибывающего на эндемичную территорию в период активизации основного носителя Ч [2, 5].
Опасность заноса (завоза) высоковирулентных штаммов чумного микроба с территорий трансграничных очагов и других регионов мира, неблагополучных по Ч, активность природных очагов внутри страны, экономическая деятельность в зонах природных очагов, развитие международного и внутреннего туризма способствуют повышению риска возникновения случаев заболевания в Российской Федерации.
В современной профилактике инфекционных заболеваний очень важную роль играет вакцинация. Однако после прекращения производства инактивированной чумной вакцины USP (США), обладавшей большим количеством недостатков, ВОЗ исключила из своих рекомендаций проведение вакцинации населения в активных природных очагах Ч, оставив только группы повышенного риска (например, сотрудников лабораторий, которые постоянно подвергаются риску заражения, и работников здравоохранения) [6].
В Российской Федерации для профилактики Ч у проживающих на энзоотичных по ней территориях взрослых и детей с 2 лет, а также лиц, работающих с живыми культурами возбудителя Ч, зарегистрирована вакцина чумная живая сухая (лиофилизат культуры вакцинного штамма Yersinia pestis ЕV линии НИИЭГ для приготовления суспензии для инъекций, накожного скарификационного нанесения и ингаляций и таблетки для рассасывания) и вакцина чумная живая (лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций, накожного скарификационного нанесения и ингаляций). Однако безопасность применяемой в настоящее время вакцины признана относительной [7–9].
В 2018 г. в России зарегистрирована состоящая из рекомбинантных капсульного антигена и V-антигена чумного микроба вакцина чумная молекулярная микроинкапсулированная (лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения). Она предназначена для профилактики Ч личного состава войск Минобороны России и МЧС, действующих в чрезвычайных ситуациях; населения в возрасте от 18 до 58 лет, проживающего на территориях природных очагов Ч (при наличии энзоотий Ч среди грызунов); а также в случае угрозы биотеррористического акта. По мнению авторов, этот препарат может быть использован для ревакцинации после первичной вакцинации живой чумной вакциной EV с учетом индивидуального интегрированного показателя гуморального и клеточного иммунитета и будет во многом способствовать устранению нежелательных реакций организма на введение живой вакцины [10].
Цель исследования – анализ данных литературных источников, посвященных различным аспектам специфической профилактики Ч.
Повторяющиеся вспышки Ч, появление новых технологий создания вакцин, осознание необходимости в противочумных вакцинах в регионах, которые не могут быть обеспечены своевременной диагностикой и лечением (например, отдаленные сельские районы; регионы, находящиеся в условиях ограниченных ресурсов; зоны конфликтов и т. д.), обусловили возобновление интереса мировой науки в целом и ВОЗ в частности к разработке вакцин нового поколения против Ч. В 2018 г. на состоявшемся под эгидой ВОЗ рабочем совещании «Испытание эффективности вакцин против чумы: конечные точки, пробный дизайн, выбор площадки» были обозначены основные принципы оптимизации создания и испытания нового поколения препаратов для специфической профилактики Ч [11, 12]. На момент проведения совещания было заявлено о 17 прототипах вакцин против этого заболевания.. Препараты для специфической профилактики Ч, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на разных технологических платформах, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки.
Многолетнее использование живой вакцины на основе вакцинного штамма Y. pestis EV линии НИИЭГ для профилактики Ч позволяет считать этот препарат достаточно эффективным, но не лишенным ряда недостатков. Основным направлением совершенствования препарата вакцины чумной живой является оптимизация биотехнологии ее изготовления, в том числе за счет контроля основных показателей качества выпускаемой вакцины и стабильности препарата в процессе хранения [13], повышения и сохранения показателя живых микробных клеток в процессе получения биомассы, оптимизации ее биологических и физических свойств, их стабилизации в процессе лиофильной консервации и последующего хранения [14], обязательного использования отраслевого стандартного образца (ОСО) при проведении испытания специфической активности и термостабильности производственных серий вакцины [15], усовершенствования технологии концентрирования микробных клеток [16], внедрения в производство новых экспериментальных питательных сред [17], включения в технологический процесс производства этапа «анимализации» [18]. Не менее важными аспектами совершенствования живой чумной вакцины являются снижение реактогенности и аллергизирующего действия, а также повышение продолжительности вызываемого иммунитета и защитных свойств при заражении атипичными штаммами возбудителя Ч. В литературе представлены результаты изучения защитного действия сочетанного применения живой чумной вакцины и различных иммуномодуляторов, свидетельствующие о том, что оптимальным препаратом для повышения иммуногенных и протективных свойств вакцины чумной живой является полиоксидоний [19, 20]. Показано, что включение его в схему иммунизации стимулирует как раннюю фазу антигенспецифического иммунного ответа, ускоряя появление и исчезновение лимфоцитов с рецепторами к F1 Y. рestis, так и его эффекторную фазу, усиливая антительный ответ [21]. В экспериментах комплексного морфофункционального контроля состояния органов периферической иммунной системы при сочетанном использовании живой чумной вакцины и иммуномодулятора установлено стимулирующее влияние полиоксидония на процессы пролиферации клеток в Т-зонах лимфоидных органов, на активацию в них субпопуляций Т- и В-лимфоцитов [22]. Методом проточной цитометрии установлено, что предварительное введение полиоксидония перед противочумной вакцинацией стимулирует фагоцитарную и цитокинпродуцирующую активность лейкоцитов крови по отношению к чумному микробу [23].
Для совершенствования стратегии специфической профилактики Ч в природных очагах этой инфекции осуществляются иммунологические исследования лиц, вакцинированных живой чумной вакциной. Результаты иммунологического мониторинга, включающего определение продукции IFN-γ, IL-4, TNF-α клетками крови, титров специфических антител к капсульному антигену F1 чумного микроба и концентраций основных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови, а также иммунофенотипирование лимфоцитов крови (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19), подтвердили относительную безопасность применения живой чумной вакцины. Определена направленность иммунологической перестройки у привитых, охарактеризованы границы колебаний индивидуальных показателей иммунного ответа на вакцину, выявлены лица как с нормальной, так и со сниженной или повышенной иммунологической реактивностью. Учет данных иммунологического мониторинга обеспечивает возможность прогнозирования результатов вакцинации по эпидемическим показаниям, выделяя группы с нормальной, высокой и низкой иммунной реактивностью на антигены чумного микроба [24–27]. Комплексный анализ факторов [возраст, пол, состояние здоровья, количество предыдущих вакцинаций против чумы, группа крови, концентрация специфических антител к капсульному антигену (F1) чумного микроба, определение спонтанной и индуцированной продукции маркерных цитокинов (IFN-γ, TNF-α и IL-4) методом ИФА и генов HLA II класса методом ПЦР в режиме реального времени], влияющих на иммунологическую реактивность лиц, привитых живой чумной вакциной, позволяет рассматривать возможности внедрения на территории природных очагов Ч персонифицированного подхода к специфической профилактике этой инфекции [28]. Для совершенствования системы иммунопрофилактики и повышения ее роли в общем комплексе средств борьбы с Ч в качестве подхода к моделированию системы иммунологических реакций предложено использовать нейросетевое моделирование, которое позволяет провести углубленный анализа экспериментальных данных, создать математическую модель и с высокой точностью прогнозировать эффективность повторного применения различных препаратов специфической профилактики [29].
Для решения проблемы реактогенности и остаточной вирулентности живой противочумной вакцины огромные усилия научное сообщество направляет на создание субъединичных препаратов для специфической профилактики Ч [9, 30, 31]. На сегодняшний день основной объем исследований, доведенных до стадии доклинических и клинических испытаний, представляют разработки прототипов противочумных вакцин на основе рекомбинантных протективных антигенов: фракции 1 (F1) – капсульного антигена и V антигена (LcrV) – компонента системы секреции III типа [9, 30, 32–38]. Их совместное применение обеспечивает активацию дендритных клеток, что способствует формированию клеточного иммунитета и усилению протективного эффекта в отношении, в том числе, аэрогенного инфицирования биомоделей высоковирулентными штаммами Y. pestis [30, 32]. Наиболее значительных успехов в этом направлении добились ученые США, Великобритании, Китая и России. Вакцина, разработанная ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (ГНЦ ПМБ), является в мире первым зарегистрированным препаратом такого уровня [10].
Значительное количество разработок вакцин против Ч посвящено созданию векторных препаратов на платформе безопасных штаммов бактерий, реплицирующихся и нереплицирующихся вирусов. В качестве векторов для клонирования детерминант иммуногенности патогенного микроорганизма используют безопасные штаммы, прошедшие доклинические или клинические испытания [9]. В качестве бактериальных векторов чаще всего используют аттенуированные штаммы Y. pseudotuberculosis и Salmonella typhimurium, в которые встраивают гены, кодирующие образование протективных антигенов F1, V, Psa-антиген и др. [9, 30, 37, 39, 40]. Наиболее впечатляющие, на взгляд авторов, результаты в этом направлении получены французскими учеными, предложившими прототип живой однодозовой вакцины для перорального применения на платформе Y. pseudotuberculosis [33, 41].
Для достижения более длительной персистенции вакцины в организме и индукции Т-клеточного ответа, в частности продукции цитотоксических Т-лимфоцитов, в качестве вектора применяют вирусы. В литературе представлены данные об использовании в качестве векторов поксвирусов, вируса везикулярного стоматита, вируса табачной мозаики, аденовирусов [42, 43]. Значительный успех был достигнут в разработке трехвалентной вакцины на основе аденовируса серотипа 5 с дефектом репликации [43].
Создание векторных вакцин – многообещающее направление, однако оно имеет свои сложности. Так, снижение иммуногенности препарата может быть связано с тем, что рекомбинантный продукт не всегда имеет ту же структуру, что и нативный антиген. Перспективой развития данного направления исследований считается использование векторов, в которые будут встроены не только гены, контролирующие синтез протективных антигенов, но и гены, кодирующие синтез медиаторов иммунного ответа [30].
Для решения проблемы повышения протективности вакцин, разработанных на основе антигенов F1 и V, особенно в случае возможного заражения возбудителем Ч с Fra-фенотипом, рядом авторов были представлены результаты оценки защитного потенциала различных антигенов, наиболее перспективными среди которых оказались активатор плазминогена – Pla, белки внешней мембраны – OmpA, OmpX, Ail [9, 43–45].
Результаты работ отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют о перспективности использования везикул наружных мембран и других препаратов поверхностных структур клеток чумного микроба в качестве основы для конструирования химических бесклеточных вакцин [46, 47]. Наиболее перспективными при создании новых гипоаллергенных вакцин считают белки-аллергены, относящиеся к группе экстрацеллюлярных [48]. На основе пустых оболочек клеток грамотрицательных бактерий, лишенных цитоплазмы, но сохраняющих неизменными все морфологические и структурные особенности их живых предшественников, специалисты ГНЦ ПМБ предложили новую систему доставки вакцин – технологию «бактериальных теней (призраков)». Такой способ обеспечивал индукцию как клеточного, так и гуморального ответа, причем в вариантах «бактериальных теней» с полностью разрушенным пептидогликановым скелетом отмечено усиление иммунного ответа за счет образования множества молекул мурамилдипептида (N-ацетилмурамил-L-аланил-D-изоглутамина), выполняющего роль мельчайших адъювантных фрагментов [49].
Значительных успехов достигли разработчики многокомпонентных ДНК-вакцин, сконструировавшие препарат, содержащий модифицированный ген lcrV и сигнальную последовательность человеческого тканевого активатора плазминогена (tPA) и обеспечивающий защиту мышей линии BALB/c от интраназального заражения летальной дозой Y. pestis; а также препарат, содержащий плазмиду, кодирующую синтез IL-12 и F1-LcrV-слитного белка, обеспечивающий 50% защиту мышей от аэрозольного заражения чумой [30, 50, 51].
При разработке вакцин большое внимание уделяется повышению протективности за счет использования различных адъювантов. Наиболее значимые результаты, свидетельствующие о возможности стимулирования гуморального и клеточного звеньев иммунного ответа, получены при совместном применении субъединичного препарата rF1-V и адъювантов: гидроксида алюминия и ко-стимулирующей молекулы SA-4-1BBL [51–56].
Несмотря на все усилия по созданию субъединичных препаратов для специфической профилактики Ч, на сегодняшний день живые аттенуированные вакцины против Y. pestis стимулируют гораздо более эффективный иммунитет, по напряженности приближающийся к постинфекционному и защищающий от заражения различными по антигенному составу вариантами патогена [57]. Субъединичные вакцины пока так и не смогли приблизиться по эффективности к живым вакцинам, в частности, из-за отсутствия у них патоген-ассоциированных молекулярных структур, направляющих иммунный ответ макроорганизма по Th1-пути с преимущественным развитием клеточных реакций [9].
В связи с развитием современных методов генетической модификации штаммов, позволяющих целенаправленно снижать вирулентность, сохраняя при этом иммуногенность, поиск оптимальных способов аттенуации при конструировании вакцинных штаммов может стать кратчайшим путем к усовершенствованным живым вакцинам нового поколения. Направленный сайт-специфический мутагенез без использования маркеров антибиотикорезистентности, привлечение геномного, протеомного и транскрипционного анализов возбудителя для определения рациональной стратегии конструирования авирулентных штаммов выводят на новый уровень процесс создания живых вакцин. Основными направлениями исследований в данной области являются снижение реактогенности и повышение иммуногенности штаммов Y. pestis с характерной делецией в области пигментации и прецизионная аттенуация природных вирулентных штаммов Y. pestis [9, 36, 58–62].
Отсутствие зарегистрированных противочумных вакцин, обеспечивающих надежную длительную защиту против легочной чумы, и потенциальная опасность применения Y. pestis в качестве агента биотерроризма подчеркивают актуальность и настоятельную необходимость разработки более эффективных вакцин против легочной Ч [58, 63].
Большее внимание исследователи уделяют совершенствованию способов доставки вакцин [64] и внедрению альтернативных способов введения вакцин в организм. Представлены результаты модельных экспериментов по конструированию прототипа трансдермального варианта чумной химической вакцины [65]. В экспериментах на животных получены положительные результаты противочумной вакцинации с использованием растений в качестве биореакторов [66]. Разработаны вакцинные препараты для перорального и интраназального применения. Перспективность применения таких методов введения вакцины на сегодняшний день наиболее экспериментально обоснована [33, 41–43]. Такие способы презентации вакцины, обеспечивая непосредственный контакт со слизистыми оболочками, усиливают формирование гуморального и мукозального противочумного иммунитета и тем самым повышают эффективность иммунопрофилактики при аэрозольном пути заражения Чй. В экстренных ситуациях зарубежными исследователями [38] был предложен двойной путь вакцинации: подкожный – первичная доза, пероральный – бустерная доза в капсуле с энтеросолюбильным покрытием. Разработанный способ введения вакцины VypVaxDuo индуцировал у мышей Balb/c ранний иммунитет через 14 дней после первичной иммунизации, а полную защиту – через 25 дней.
До настоящего времени сохраняется актуальность исследований, посвященных пассивной иммунотерапии Ч. Описаны положительные результаты экспериментов по получению специфичных моноклональных антител к антигенам Y. pestis V и F1. Введение комбинации данных моноклональных антител защищало мышей на моделях бубонной и легочной Ч, проявляя при этом синергизм [36].
Быстрое и эффективное создание иммунной прослойки, прежде всего среди групп населения с наибольшим риском заражения (медицинские работники, служба охраны порядка, транспорта и пр.), приобретает особое значение при угрозе антропогенного распространения Ч, в том числе связанного с чрезвычайными ситуациями техногенного или биотеррористического характера [58, 63]. Перспективность иммунизации потенциально инфицированных, находящихся в инкубационном периоде заболевания, живыми и субъединичными вакцинами экспериментально обоснована российскими и зарубежными учеными [67–70]. В то же время известно, что в отсутствие адекватной антибиотикотерапии легочная и септическая формы Ч приводят к смертельному исходу в течение 1–3 сут от начала заболевания. В связи с этим доказано положительное влияние вакцинации на эффективность одновременно проводимой антибактериальной терапии, в том числе заведомо недостаточно эффективными антибактериальными препаратами. Экспериментально установлено, что вакцинация может стать средством снижения смертности в случае применения в качестве агента биотерроризма антибиотикоустойчивого штамма Y. pestis, обеспечивая создание резерва времени для определения антибиотикочувствительности возбудителя и замены неэффективного антибиотика на эффективный [41, 68, 70]. Таким образом, необходимостью купирования инфекционного процесса у потенциально инфицированных и скорейшего создания иммунной прослойки среди населения, прежде всего в группах риска, определяется приоритетность проведения в системе противоэпидемических мероприятий сочетанной экстренной профилактики антибактериальными препаратами и иммунизации.
Учитывая, что в настоящее время не создано субъединичных вакцин против Ч, превосходящих по эффективности живые вакцины [58], а также невозможность использования живых вакцин для сочетанного применения с экстренной профилактикой антибактериальными препаратами ввиду их чувствительности к антибиотикам, актуальными остаются разработки антибиотикорезистентных живых вакцин и схем их применения [71, 72].
Заключение
Использование достижений биологических и медицинских наук для определения рациональной стратегии конструирования иммунобиологических препаратов позволило в последние годы достичь определенного прогресса в создании не только субъединичных вакцин на основе рекомбинантных антигенов, но также живых и векторных препаратов на платформе безопасных штаммов бактерий и реплицирующихся и нереплицирующихся вирусов. Однако на сегодняшний день такая усовершенствованная противочумная вакцина еще не сконструирована. В условиях быстрого глобального распространения инфекций и высокой смертности, связанной с ними, наличие и разработка новых противочумных вакцин, схем и методов специфической профилактики Ч, включая схемы сочетанной экстренной профилактики антибактериальными препаратами и иммунизации, являются критически важными задачами, требующими решения.