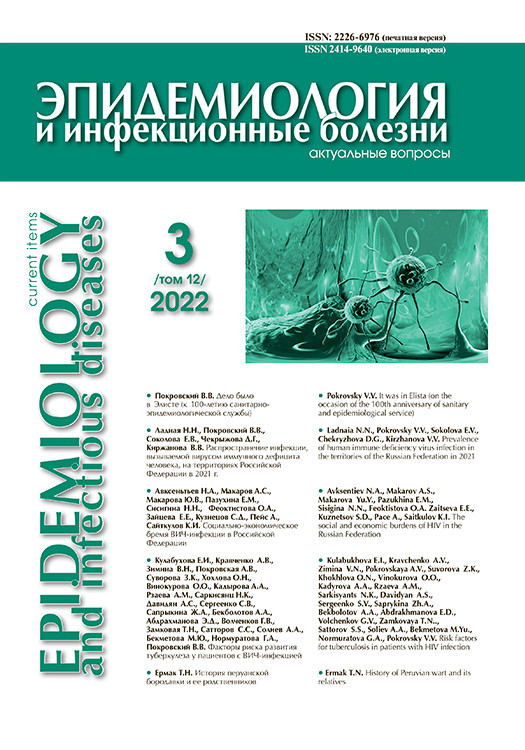Недавно вышел телесериал «Нулевой пациент», посвященный внутрибольничной вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте, которую я расследовал в 1988–1989 гг., и многие коллеги, пришедшие работать намного позднее, да и те, кто подзабыл эти события, стали задавать вопрос: насколько содержание фильма соответствует реальной истории?
Начну с того, что для эпидемиолога или инфекциониста все было гораздо интереснее.
Безусловно, фабула фильма соответствует реальной истории, но, следуя правилам жанра, сценаристы придумали главных персонажей, добавили политики, секса и мордобоя, а также много табака и водки. С алкоголем они, конечно, перебрали, так как тогда еще действовал горбачевский сухой закон, да и во многих других деталях советской жизни авторы сползли в сторону лубочных штампов. И, как требует жанр сериала, в конце «первого сезона» авторы оставили зрителя в неопределенности относительно того, виновата ли в распространении ВИЧ злонамеренная «швейцарская фирма», поставившая в Россию зараженный ВИЧ иммуноглобулин, или чиновники, заставлявшие медицинских сестер вводить этот препарат всем детям без разбора, или же сами эти милые девушки. Для противодействия распространению ВИЧ этот сериал ничего не дал.
Видимо, действуя в жестких рамках бюджета, авторы сильно сократили количество персонажей и обрезали интересные сюжетные линии. Особенно жаль, что в фильме совсем не видно санитарно-эпидемиологической службы, сотрудники которой проделали огромную работу, необходимую для быстрой локализации и ликвидации расползающегося нозокомиального очага ВИЧ-инфекции. Обычно считают, что вспышка вскрыла слабости системы здравоохранения, но обнаружение элистинской вспышки было триумфом советской школы эпидемиологии. Внутрибольничные очаги передачи ВИЧ обнаруживали или подозревали во многих странах, но ни в одном случае до конца расследовать эти вспышки иностранные исследователи не сумели.
Конечно, фильм рассчитан на широкую аудиторию, для которой, возможно, «и так сойдет», но специалисты, конечно, хотят подробностей. А в подробностях, то есть в деталях, и «скрывается дьявол». Тем более, что элистинская история является продолжением процесса изучения инфекционных заболеваний, в том числе инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и «дьяволов» оттуда еще придется изгонять и изгонять. Научную составляющую этой вспышки я подробно описал в монографии «Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД» [1], которая вышла небольшим тиражом в 1996 г., но которую сейчас легко можно найти и прочитать, набрав это название и имя автора в поисковике Интернета.
Но молодежь жалуется, что читать ее тяжело, так как текст представляет собой тщательный разбор результатов исследований, которые по законам решения теоремы объясняют и доказывают значение разных путей и факторов передачи ВИЧ, действовавших во время этой вспышки, которые теперь-то все знают и принимают как аксиому. Многие пришли работать в действующую систему недавно и не знают, в какой борьбе она создавалась. А в 1988 г., когда происходили события в Элисте, мы даже еще не знали точных исходов ВИЧ-инфекции, сомневались в путях и факторах передачи, а о возможности внутрибольничных вспышек этого заболевания никто не догадывался. (Кроме меня, конечно, что я докажу ниже). Да и в научных трудах нет места для интересных событий и разных приключений, которые происходят вокруг эпидемиологических исследований.
Начнем с того, что эта история началась за много лет до описываемых событий. Может быть даже... в ХIХ веке, когда лекарства впервые начали вводить парентеральным путем, причем первым препаратом, использовавшимся таким образом, был морфий, который вводили раненым во время гражданской войны в США и франко-прусской войны. Кое-какие эпизоды применения парентерального введения могли иметь значение и в возникновении первых очагов ВИЧ-инфекции в Африке, но об этом мы узнали позднее, и я еще вернусь к этому. А по-настоящему массовое применение парентерального введения лекарств началось только после Второй мировой войны.
Непосредственно наш эпизод относится к 80-м годам ХХ века, когда в СССР начался подъем заболеваемости гепатитом В и гепатитом «ни А ни В», который уже отличали от В, но возбудителя – вирус гепатита С – тогда еще не дифференцировали. Причины такого подъема широко обсуждались, а так как эти гепатиты объединяли термином «сывороточный гепатит», то из названия ясно, что первые дифференцированные вспышки этого инфекционного гепатита связывали с парентеральным заражением, часто при проведении вакцинации. К тому же число парентеральных вмешательств в медицине постоянно возрастало, а так как прослеживалась и связь многих случаев с учащающимися медицинскими процедурами, то встал вопрос о мерах предотвращения этой, как ее теперь называют «инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи». Инъекции тогда выполняли стеклянными шприцами, имевшими металлические наконечники. Шприцы между использованиями кипятили в специальных стальных контейнерах. Контейнеры были разной величины, например, маленькие широко использовались и в домашних условиях, в них можно было прокипятить инструменты дома на любом нагревательном приборе.
Многие сейчас связывают тогдашнее отсутствие пластиковых шприцев в медицинских учреждениях с недостатками социалистической системы, технической отсталостью и т. п. На самом деле вопрос о производстве и использовании одноразовых шприцев вставал задолго до описываемых событий, но тогда же возникло правильное возражение, что такие шприцы можно использовать многократно, а стерилизовать невозможно. Сразу после использования их надо выбрасывать, поэтому на английском они и называются не одноразовые, а disposal – «утилизационные, мусорные». По всей видимости, опасность повторного использования и была главным аргументом, почему их не стали массово производить в стране, которая давно запускала космические корабли. Еще один интересный аргумент против производства одноразовых шприцев приводит в своих воспоминаниях В.И. Покровский [2]. Он пишет, что когда тогдашнего министра здравоохранения СССР, известного хирурга Б.В. Петровского во время его пребывания с делегацией в Иране спросили, почему в СССР не производят одноразовых шприцев, тот ответил, что это делается исключительно для предотвращения загрязнения окружающей среды миллионами использованных инструментов. Сегодня этот тезис звучит очень убедительно. Возможно, был и какой-то экономический резон использовать стеклянные шприцы многократно. Но это как посмотреть...
Ученые быстро выяснили, что простое кипячение инструментов не убивает вирус гепатита В, кипятить надо длительно и при повышенном давлении – в автоклавах. Это осложняло и удорожало дело, так как поставить автоклавы в каждое отделение в больнице или поликлинике было нереально. Тогда придумали схему1, по которой все шприцы и иглы медицинские сестры должны были кипятить или заливать хлорамином или хлорной известью, тщательно промывать в горячей воде, потом высушивать, укладывать в крафт- пакеты («1 шприц и 2 иглы») и сдавать в специальные дезинфекционные отделения, где они проходили автоклавирование. Потом продезинфицированные шприцы возвращали в отделения. Сразу возникает вопрос по тексту: почему в одну упаковку клали 2 иглы и 1 шприц? Очевидно, для того, чтобы одной иглой набирать лекарство из ампулы или другого сосуда, а другой вводить лекарство больному. Однако кто-то мог интерпретировать этот текст и иначе.
Очевидно, что такая сложная схема обеззараживания медицинских инструментов является очень трудоемкой, но эту систему быстро внедрили во всех медучреждениях страны. Однако число случаев гепатита снизилось ненамного, потом даже продолжало расти, и этому нужно было найти объяснение. За дело взялись сразу несколько групп видных специалистов.
По рассказам современников, за доказательство того, что «непонятные» случаи заражения гепатитом связаны с заражением половым путем, рьяно взялся сотрудник Института вирусологии Е.А. Пакторис, который, несомненно, очень много сделал для изучения эпидемиологии гепатитов. Говорили, что он для доказательства половой передачи вируса гепатита В упорно понуждал больных острым гепатитом дам, неизвестно почему заболевших гепатитом, признаваться в «посторонних» половых контактах. Позднее мы увидим, к чему могут привести такие методы эпидемиологического расследования, но существование полового пути передачи «сывороточного» гепатита он доказал. Однако свалить все случаи заражения гепатитом В на половой путь не получалось, тем более, что иногда возникали вспышки среди детей.
Забавную историю рассказывают о Пакторисе, прибывшем расследовать вспышку гепатита В среди детей в возрасте до года в одной из среднеазиатских республик. (по иной версии, речь идет о другом видном гепатологе из Института вирусологии – Н.А Фарбере, но был ли это кто-то из них, не так важно). Московский ученый выдвинул концепцию, что эти дети заражаются при проведении обряда обрезания в антисанитарных условиях. На что местные специалисты ему мягко заметили, что мусульмане, в отличие от евреев, делают обрезание не новорожденным младенцам, а детям значительно старше, в разных странах в разном возрасте, но с тенденцией к возрасту достижения половой зрелости. Эта история показывает, как важно эпидемиологам знать этнографические особенности населения, с которым работаешь, но как заразились те дети, осталось непонятно.
В результате возникло предположение, что есть другой, ранее не описанный путь передачи вируса гепатита В. Cамая драматическая ситуация сложилась в связи с докторской диссертацией Г.Ф. Степанова, заведующего лабораторией вирусных гепатитов Центрального НИИ эпидемиологии (ЦНИИЭ), которому пришлось защищать ее 3 или 4 раза, прежде чем она была одобрена ВАКом. На одной из этих защит, проходившей в ЦНИИЭ, я присутствовал. В этот раз на защите был подозрительно статусный кворум: несколько директоров институтов, заместитель министра здравоохранения СССР. После доклада диссертанта, который указал на растущую значимость гепатитов и сложность установления путей передачи вируса гепатита В, на проблемы с предупреждением передачи вируса в медицинских учреждениях и на необходимость поиска новых подходов к профилактике, слово взяли директор Института вирусологии академик В.М. Жданов и заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач СССР академик П.Н. Бургасов. Они обвинили Г.Ф. Степанова в том, что он выступает против централизованной системы дезинфекции в больницах и тем самым наносит ущерб советскому здравоохранению, то есть чуть ли не во вредительстве. Видимо, центральные дезинфекционные отделения были предметом особой гордости тогдашних корифеев.
Однако возникшее напряжение сменилось удивлением после выступления официального оппонента профессора Т.В. Голосовой, занимавшейся тогда в Институте гематологии профилактикой передачи инфекций при переливании крови, а потом много работавшей над изучением ВИЧ-инфекции. Она заявила, что прочитала всю диссертацию Степанова от начала до конца, но не нашла там ни слова о том, что централизованную дезинфекцию надо отменить, а что касается научной ценности диссертации, то она вполне соответствует требованиям ВАКа. После этого ученый совет ЦНИИЭ большинством голосов утвердил диссертацию, тем не менее ВАК, видимо по настоянию уязвленных авторитетов, еще раз посылал ее на повторную защиту.
В это время я увлекся теорией эпидемиологии, это было естественно, так как в этот период инфекционная эпидемиология как наука переживала бурный период. В ЦНИИЭ прошли открытые дискуссии о теории саморегуляции паразитических систем В.Д. Белякова, разрабатывал свою концепцию эпидемического процесса Б.Л. Черкасский.
А Г.П. Степанов был прекрасным знатоком работ Л.В. Громашевского и медицинской статистики, мы часто с ним беседовали. И однажды он конфиденциально сообщил мне, что, расследуя последнюю вспышку гепатита В в некоем детском стационаре, где не могло быть половой передачи заболевания, он уже почти определил воздушно-капельный механизм передачи, но «не хватает еще немного доказательств....». К сожалению, в результате многочисленных защит и сопутствующей нервотрепки здоровье Георгия Парфеновича Степанова было сильно подорвано, он начал болеть и через пару лет скончался.
В общем, в середине 80-х годов вопрос о загадочной передаче вируса гепатита В в медицинских учреждениях с повестки дня еще не снимался.
Между тем после раскрутки эпидемической цепочки первого обнаруженного нами больного СПИДом [1] наши дела в борьбе с этим заболеванием пошли хорошо. Все убедились, что ВИЧ не только мог проникнуть в СССР, но и проник уже в начале 80-х годов, и в стране есть все возможности для его распространения. Я обнаружил цепочку передачи из 25 человек, в числе которых было много пациентов с ВИЧ, заразившихся при гетеросексуальных контактах, и это сильно подрывало позицию харизматичного генерала-академика П.Н. Бургасова, который всех убеждал, что ВИЧ проникает в организм исключительно посредством прямой кишки, где и размножается.
Заинтересовавшиеся этим вопросом читатели могут подробнее ознакомиться с такой концепцией в мемуарах Бургасова «Я верил...» [3]. Но к этим мемуарам я советую относиться критически, так как одним из главных недостатков Петра Николаевича считаю его неспособность признавать свою неправоту. Ему приписывают многие заслуги перед здравоохранением, но в середине 80-х его время уже подходило к концу, ни на кого уже не производили впечатление ни его грозный вид, а он был двухметрового роста и обладал огромным, нависающими над оппонентов бровями, ни его сильная манера выражаться, ни даже его утверждения, что он начинал работать «в аппарате Берии». Он допустил несколько промахов с поставленными за рубеж вакцинами, оказавшимися не очень эффективными, и его компрометировала пресса, в том числе очень популярная тогда «Литературная газета», с которой он потом долго судился, почему-то утверждая на суде, что журналистов натравил на него ... я, и именно из-за его принципиальной позиции по анальному сексу и ВИЧ. Была ли это шутка, или он действительно так подумал, ответить не берусь.
Не буду и утверждать, что эта история как-то связана с его отстранением от должности, да и сам Бургасов намекает в мемуарах, что с ним не сработался тогдашний министр здравоохранения СССР С.П. Буренков. Но это мог быть и отзвук до сих пор не очень понятной истории со вспышкой сибирской язвы в Новосибирске, в расследовании которой П.Н. Бургасов принимал деятельное участие [3]. А место самого Буренкова уже через год занял академик, лауреат многочисленных премий Евгений Иванович Чазов. Это был замечательный кардиолог, который, кроме других трудовых подвигов, лечил от сердечных болезней стареющую верхушку советского руководства. Он весьма преуспел в продлении жизни этого контингента, за что, кстати, получил одну из нескольких своих Государственных премий. Пришедший к власти М.С. Горбачев, еще не нуждавшийся в подобном лечении, направил Чазова поднимать здоровье всего населения, что было, конечно, потрудней.
Как бы то ни было, П.Н. Бургасова отправили в отставку с поста Главного санитарного врача СССР и заместителя министра здравоохранения, и таким образом мой постоянный оппонент потерял рычаги административного воздействия. Правда, он до конца своих дней, где только мог, настаивал на том, что ВИЧ передается преимущественно среди мужчин, имевших секс с мужчинами. Даже в 2000-х годах, когда все уже знали, что инфицированных ВИЧ женщин в мире даже больше, чем мужчин, он писал: «СПИД – это пока мужская патология гомосексуалистов, и в особенности пассивных гомосексуалистов» [3]. И он во многом преуспел, так как до сих пор очень многие лица, принимающие решения, считают ВИЧ-инфекцию болезнью гомосексуалистов, и есть опасность, что они сочтут таковой и обезьянью оспу, которую недавно выявили в Европе преимущественно в этой группе населения.
А на пост Главного государственного санитарного врача СССР был назначен Александр Иванович Кондрусев, ранее работавший в Белоруссии. Он был скорее гигиенистом, чем эпидемиологом, и не имел какого-то особого предвзятого мнения относительно ВИЧ-инфекции. Косвенно с нашей темой связана его скоропостижная гибель: в 1997 г. он умер в результате переливания ему несовместимой крови, и я не уверен, что эту процедуру вообще надо было проводить, так же как большую часть переливаний крови, которые приводили к передаче ВИЧ.
А.И. Кондрусев был значительно более демократичен, чем П.Н. Бургасов. Я сопровождал его на конгресс по ВИЧ/СПИДу в Стокгольме и воспользовался случаем, чтобы побольше порассказать ему об этом заболевании. После этого у нас сложились довольно хорошие взаимоотношения, и я полагаю, что он мне вполне доверял. Это, конечно, сыграло существенную роль в последующих событиях.
Между тем в конце 1987 г. в ЦНИИЭ была создана Специализированная лаборатория эпидемиологии и профилактики СПИДа, которую возглавил бывший начальник Главного эпидемиологического управления Минздрава СССР профессор В.П. Сергиев. Собственно говоря, эту лабораторию он, собираясь покинуть свой ответственный и хлопотный пост, явно делал «под себя»: выбил новые ставки, оборудование, нашел отличных специалистов по импортной вычислительной технике, что потом очень нам пригодилось. Я очень уважаю Владимира Петровича как исключительно интеллигентного человека и высококлассного специалиста, имевшего огромный опыт работы как в России, так и за рубежом, я многому у него научился. Сожалею, что долго работать вместе нам не пришлось. Открылась вакансия директора Института паразитологии и тропической медицины, и Владимир Петрович ее занял. Хотя он поговаривал, что ушел потому, что ему «трудно было работать между двумя Покровскими», но мне кажется, что ему не менее трудно было отказаться от занятия поста, который 35 лет (до 1970 г.) занимал его отец, Петр Григорьевич Сергиев, бывший одно время Наркомом здравоохранения СССР. Да и должность директора института была намного выше и престижней, чем заведующего лабораторией. Владимир Петрович уже давно известный академик, и мы с ним иногда вспоминаем те минувшие дни, как годы рассвета отечественной эпидемиологии.
С его помощью и при непосредственном участии заменившего В.П. Сергиева на посту начальника управления Михаила Ивановича Наркевича, личность и деятельность которого заслуживают отдельной статьи, нам в сентябре 1988 г. удалось подготовить и издать приказ «О совершенствовании учета лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД»2. С этого момента в СССР фактически начала действовать современная система постоянного надзора за ВИЧ-инфекцией. К приказу прилагались инструкции о том, кого надо в обязательном порядке обследовать на ВИЧ-инфекцию. Доноров начали обследовать еще раньше, а в этом приказе были добавлены практически все те же группы населения, что и сейчас. Кроме них была еще и группа, обозначенная как «Бытовые контакты с больными СПИДом или серопозитивными», наличие которой показывает, что тогда не было полной уверенности в том, что мы знаем все пути передачи ВИЧ. Мы эту позицию изъяли лет через 5, только после того, как обследовали более миллиона «бытовых» контактов, и убедились, что ВИЧ-инфекция в быту не передается. Конечно, кое-кто из членов семьи при таком обследовании и оказывался инфицированным ВИЧ, но эпидемиологическое расследование подтвердило народные наблюдения, что контакты зятя и тещи, да и других членов семей могут быть не только бытовыми, но и половыми.
Эти наблюдения подчеркивают важность введения вышеупомянутым приказом «Оперативного донесения о лице, в крови которого при исследовании в реакции иммуноблота выявлены антитела к ВИЧ». Этот документ надо было срочно отправлять по адресу в СНИЛ эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИЭ по адресу: 105275, Москва, 8-я ул. Соколиной горы, 15, строение 2. Это позволяло нам быстро проводить эпидемиологическое расследование. Надо сказать, что в это время всех выявленных ВИЧ-позитивных граждан мы также старались вызвать в Москву на обследование в нашем отделении, что было исключительно полезно для изучения ВИЧ-инфекции.
По сути дела, мы раскинули по стране огромные сети, в которые должны были попадать потенциальные источники ВИЧ-инфекции. Не выйди этот приказ и не будь в нем требования об оперативном донесении, никакой внутрибольничной вспышки мы бы не обнаружили или обнаружили ее, когда ВИЧ заразились бы тысячи детей по всей стране. Сейчас Минздрав России по каким-то темным соображениям принимает меры, чтобы упразднить эту позицию. Легко представить, к чему это может привести, так как риск внутрибольничной передачи ВИЧ, к сожалению, сохраняется, и мы все еще выявляем подобные случаи.
Еще один эпизод, который привел к обнаружению элистинской вспышки, был связан с первым случаем смерти от СПИДа ребенка, который произошел в Одессе. Я слетал туда, и, с моей точки зрения, этот случай оказался довольно простым: в больнице от сепсиса умер грудной ребенок женщины, которая оказалась серопозитивной к ВИЧ и ранее вступала в половые контакты с иностранцами. Мы выявили уже несколько таких женщин, и ничего нового этот случай вроде бы не давал. Но это был первый случай смерти ребенка от СПИДа. В связи с этим паника была большой, местное начальство развивало бессмысленную активность, почему-то в смерти ребенка обвиняли лечащего врача, она рыдала... Но была и позитивная реакция: Минздрав СССР срочно издал указание, что на ВИЧ-инфекцию надо обследовать не только взрослых, но и детей с подозрением на иммунодефицит. Таким образом, обнаружение ВИЧ-инфекции в Элисте было отнюдь не случайным событием, а результатом развернутой системы надзора.
И вот в ноябре 1988 г. мы неожиданно получили из Калмыкии, откуда никак не ожидали, сразу 2 донесения о выявленных случаях ВИЧ-инфекции и сыворотки от этих больных: женщины, которая пришла сдавать кровь как донор, и годовалого ребенка, обследованного по клиническим показаниям в связи с септическим состоянием. Понятно, что при нашем тогдашнем низком уровне распространения ВИЧ, да еще в местности, весьма далекой от границ, эти двое должны были быть как-то связаны между собой. Естественно, мы запросили местную СЭС о том, переливали ли ребенку кровь от этой женщины-донора, а также попросили их прислать сыворотки крови родителей ребенка и других доноров, от которых он мог получать кровь.
Каково же было наше изумление, когда оказалось, что муж ВИЧ-позитивной женщины-донора не инфицирован, кровь она сдавала в первый раз, и ее никому не переливали. Родители позитивного ребенка также не были инфицированы. Не заражены ВИЧ оказались и доноры, от которых ребенку переливали кровь. Мы предположили, что произошла какая-то ошибка или неточность, и попросили калмыцких коллег проверить данные и повторить забор крови, а женщину-донора и ребенка предложили направить к нам в Москву для дальнейшего обследования.
Когда же женщина-донор и ребенок с матерью прибыли, то, как я и предполагал, учитывая редкость заболевания, оказалось, что женщины связаны между собой. Однако это не была любовная история. Выяснилось, что еще летом 1988 г. обе женщины вместе с их больными грудными детьми лежали в одном отделении больницы, причем ребенок женщины-донора там и умер.
Тогда я вспомнил про опасность, о которой предупреждал уже давно, но никто этого не заметил.
В 1975 г., когда я закончил 3-й курс института, Валентин Иванович пристроил меня проходить сестринскую практику в нашей любимой 2-й инфекционной клинической больнице г. Москвы. Там в менингитном отделении он научил меня делать спинномозговую пункцию. Потом, уже в ординатуре мне этот навык пригодился: к концу обучения меня даже звали делать пункцию в сложных случаях, хотя мастерства Валентина Ивановича я не достиг. Помню, что однажды мне даже удалось сразу попасть в спинномозговой канал пациенту «с горбом»!, то есть со страшным сколиозом, делать пункции которому никто не брался. Но для нашего главного сюжета важно только то, что если игла попадает в спинномозговой канал, то после изъятия из шприца мандрена спинномозговая жидкость сразу начинает капать, а при повышенном внутричерепном давлении она бьет струйкой. По ее цвету и прозрачности можно сразу поставить диагноз кровоизлияния или заподозрить этиологию менингита. Но если врач не попал сразу в спинномозговой канал, а задел кровеносный сосуд, то из головки иглы иногда выползала капелька крови.
А вот внутривенные введения давались мне значительно хуже, и прямо скажу, я попадал в вену с трудом и не с первого раза. Возможно потому, что практики внутривенных инъекций у меня было мало. Помню, сестра послала меня сделать внутривенное вливание находящемуся в бессознательном состоянии больному туберкулезным менингитом, но оказалось, что препарат надо было вводить в подключичный катетер, для этого шприц она вставляла прямо в отверстие катетера. Внутримышечные инъекции она делала нескольким пациентам из одного шприца, меняя только иглы, и настаивала, что это нормально и «все так делают», что меня явно не убедило, и поэтому оставило след в памяти.
Может быть, мне показалось, что сестра, чтобы убедиться, что попала в вену, немного подтягивает стержень шприца, и в прозрачном растворе появляется узкая ниточка крови? Нет, не показалось: во всех современных инструкциях по внутривенному введению лекарственных веществ можно обнаружить четкую позицию: «После введения иглы обязательно осуществляется проверка на точность попадания конца иглы в вену. Для этого контролируют поступление крови через иглу наружу и, только убедившись, что именно темная венозная кровь, а не алая, капиллярная, свободно поступает через иглу, вводят лекарственный препарат»3.. Интересно, что и при внутримышечном введении надо «потянуть поршень на себя, чтобы убедиться, что игла не находится в сосуде».
Связь передачи вирусов с этой технологией у меня возникла по аналогии с информацией, что наркопотребители заражаются ВИЧ при использовании общих шприцов и игл. Можно было бы предположить, что наркоманы колются одной иглой и шприцем, или перед тем, как ввести наркотик, набирают в шприц кровь, чтобы каким-то образом усилить удовольствие, но так поступают далеко не все, в то время как ВИЧ в использованных наркоманами шприцах обнаруживали повсеместно. Несколько проведенных мной экспериментов со шприцами показало, что после полного нажатия и отпускания стержня и без всякого усилия наблюдается эффект обратного всасывания, видимо, из-за образовавшегося вакуума. Но это хорошо видно на пластиковых полностью прозрачных шприцах и не видно на стеклянных из-за металлического наконечника.
Поэтому уже в своей первой книжке «СПИД» [4], вышедшей летом 1988 г., на с. 22 я написал следующее: «Распространенным заблуждением является предположение, будто можно вводить препараты одним шприцем, меняя только иглы. При инъекции всегда происходит микроподсос крови в шприц. Проведем несложный опыт: если в банку с чернилами из шприца через иглу ввести чистую воду, то, вновь набирая в него воду, можно увидеть, что она подкрашена в цвет чернил». И еще раз повторил на с. 34: «Современные меры обработки инструментов, включая кипячение, гарантируют гибель вируса. Однако некоторые медицинские сестры, нарушая правила, иногда производят инъекции одним шприцем, меняя только иглы. Это недопустимо».
Книжка была издана тиражом в несколько сот тысяч экземпляров, стоила 10 коп. и, видимо, пользовалась популярностью, так как были и дополнительные тиражи и даже наглые перепечатки под чужим именем. Но как оказалось, мои строки были гласом вопиющего в пустыне, так как никто на них не обратил внимания. Как потом выяснилось, никто в них не верил или не хотел верить.
О возможной существенной роли инъекций в передаче ВИЧ меня заставляла думать и информация из Африки. Мне уже рассказывали, что африканское население не очень доверяет таблеткам, впечатление на него производят только уколы. В этом отношении наши граждане к этому времени сильно продвинулись, и на них производило подобное впечатление переливание крови. До сих пор многие уверены, что если доктор назначил больному переливание крови, он сделал все, что мог, и этим некоторые медики злоупотребляют. Что касается Африки, мне попалась, например, заметка, что там существовал определенный вид мошенничества. Обладатель шприца являлся в деревню и предлагал сделать всем желающим инъекцию какого-нибудь чудотворного лекарства. Жители выстраивались в линию и по очереди получали в мягкое место лекарство из заветного шприца, причем инъекция делалась прямо через штаны. Насколько эта заметка достоверна, судить не могу. Но у меня был пациент с ВИЧ, кажется из Замбии, студент медицинского факультета РУДН, тогда университета им. Патриса Лумумбы, который у себя на родине работал медбратом. Он лечил тяжелую анемию, развившуюся из-за хронической малярии, переливаниями крови, причем иногда переливал больным собственную кровь. Он отрицал половые контакты на родине, так как «был из очень-очень христианской семьи», но говорил, что часто использовал для переливания разным людям одну и ту же систему для переливания крови и никакой дезинфекции при этом не проводил. Заразился ли он сам от своих пациентов, трудно утверждать, но кое-кого несомненно заразил. Этого парня скоро выслали из СССР, но лет через 20 он подошел ко мне на одной из международных конференций и рассказал, что окончил Сорбонну в Париже и теперь лечит ВИЧ-инфекцию.
Все эти соображения заставили меня доложить Валентину Ивановичу Покровскому и Михаилу Ивановичу Наркевичу о том, что мы, вероятно, наткнулись на внутрибольничный очаг ВИЧ-инфекции. В Элисту был срочно послан запрос прислать сыворотки других детей, которые находились в одной палате с инфицированным ребенком и умершим ребенком инфицированной женщины-донора, а также материалы от их матерей и возможных доноров крови.
Калмыцкие коллеги из республиканской СЭС сработали очень оперативно, и уже через неделю Зоя Константиновна Суворова с другими нашими коллегами проставляли присланные сыворотки. Результат превзошел мои опасения: 3 из 12 присланных детских сывороток оказались позитивными, а сыворотки их матерей и доноров крови – негативными.
Внутрибольничный очаг ВИЧ-инфекции был обнаружен путем логических построений, как говорили раньше, «на кончике пера», и за тысячу километров от места происшествия. Сработала наша система надзора. Оставалось локализовать очаг и прервать дальнейшую передачу ВИЧ. Но оказалось, что сделать это не так-то просто, многое и многие будут этому мешать.
Опытный в подобных делах осторожный Наркевич предвидел такие сложности и решил, что «сначала надо собрать окончательные доказательства». Поэтому 3 января 1989 г. мы с эпидемиологом Ириной Юрьевной Ерамовой и Мариной Олеговной Деулиной, специализировавшейся тогда на серологической диагностике ВИЧ-инфекции, вооруженные большим набором тест-систем разных иностранных фирм, вылетели в Элисту.
«Без шума и пыли», как приказал Наркевич.
(Продолжение в следующем номере).