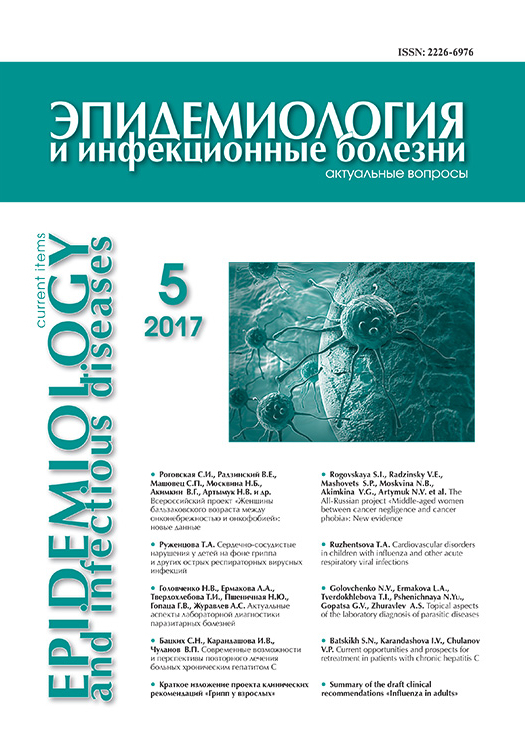Мезентериальный тромбоз (МТ) развивается при сердечно-сосудистых заболеваниях (атеросклерозе, инфаркте миокарда, аритмиях, эндокардите), злокачественных опухолях, ожирении, сахарном диабете, в послеоперационный период. Также возможно тромбирование вен при наличии гнойного воспаления в брюшной полости, травмах, сепсисе, портальной гипертензии, сдавлении сосудов опухолями [1].
У пожилых пациентов с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, гипертонической болезнью на фоне кишечной инфекции возможен тромбоз мезентериальных, коронарных и церебральных сосудов. При обезвоживании возникает сгущение крови, сладж форменных элементов, формирование тромбов, ишемия органов, некроз кишечной стенки, а также инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения [2].
Летальность при МТ, по данным разных авторов, достигает 50–100% [3]. Так, при артериальной эмболии она составляет 54,1%, при артериальной тромботической окклюзии – 77,4%, а при неокклюзионной артериальной ишемии – 72,7%. Прогноз также определяется сроками болезни, причем большинство больных поступают в хирургический стационар с уже развившимся некрозом кишечника или перитонитом [4].
Дифференциальный диагноз МТ считается одной из сложнейших диагностических проблем абдоминальной хирургии (верный диагноз выставляется лишь в 10–15% случаев) [1]. Диагностические трудности могут быть связаны с неправильной оценкой клинических данных, недостаточным использованием дополнительных методов обследования, с нарушением сознания больного [5]. Схожая симптоматика затрудняет дифференциальную диагностику МТ с кишечной непроходимостью, перфорацией полого органа, панкреонекрозом, острыми воспалительными заболеваниями [6].
Затруднительна и дифференциальная диагностика с острыми кишечными инфекциями, особенно при наличии сопутствующих соматических заболеваний. МТ более вероятен у мужчин, после 4-го дня болезни [3]. Клиника заболевания зависит от величины пораженного сосуда, его расположения и стадии патологического процесса (ишемия, инфаркт, перитонит). Обычно МТ имеет острое начало: появляется интенсивная схваткообразная боль без четкой локализации, рвота (сначала с примесью желчи, затем – с каловым запахом или с примесью крови); из-за усиления перистальтики в начальном периоде появляется жидкий стул, на стадии инфаркта он сменяется запором; в стуле может присутствовать примесь крови. Кожа бледная с цианотичным оттенком. Отмечается вздутие живота, напряжение брюшной стенки различной степени выраженности (может отсутствовать), положительный симптом Щеткина–Блюмберга, падение артериального давления. На стадии перитонита возможно мнимое улучшение: боль уменьшается и становится локализованной [1]. Характерен лейкоцитоз (14×109/л) с нейтрофильным сдвигом (72,9%), токсическая зернистость нейтрофилов (54,2%), повышение уровня ЛДГ и АсАТ, реже – АлАТ [7]. Важное значение имеет исследование показателей коагулограммы в динамике [1].
УЗИ позволяет выявить жидкость в брюшной и плевральной полостях, гастродуоденостаз (на поздних стадиях – признаки паралитической кишечной непроходимости, нарастающей в динамике), сглаженность складок слизистой оболочки тонкой кишки, признаки инфильтрации брыжейки тонкой кишки и расширение просвета ободочной кишки с фрагментарным утолщением стенок [7, 8]. УЗИ с доплерографией брюшных сосудов позволяет выявить нарушение кровотока в верхней брыжеечной артерии [8]. КТ-ангиография выявляет дефект контрастирования сосуда; кроме того, она может быть использована в качестве контрольного исследования (поскольку после операции возможен повторный тромбоз) [9].
Лапароскопия может считаться не только заключительным диагностическим методом, но и своеобразным переходом от диагностики к лечению [10].
Публикации, посвященные проблеме МТ, как правило, описывают его на фоне соматической патологии либо его дифференциальную диагностику с острыми кишечными инфекциями. Среди соматических заболеваний наиболее важным предрасполагающим фактором можно считать атеросклероз ветвей брюшной аорты, регистрирующийся у 18,4–54,1% больных в зависимости от их возраста и частоты употребления алкоголя [11]. При этом почти не уделяется внимания случаям МТ, патогенетически связанного с инфекционной болезнью. В то же время развитие этого тяжелого осложнения возможно в рамках генерализованного васкулита (например, ГЛПС, лептоспироз, сыпной тиф) или при «локальном» ДВС-синдроме, который на субклиническом уровне может присутствовать при острой кишечной инфекции (холера, сальмонеллез, шигеллез, пищевая токсикоинфекция, различные вирунсые диареи) [12].
Приводим клинический пример.
Больной В., 72 года, поступил в стационар на 3-й день болезни с жалобами на подъем температуры тела до 38,5 °С, выраженную слабость, тошноту, рвоту, жидкий стул без счета желто-зеленого цвета, боли в нижних отделах живота. В 1–2-й день болезни температура тела – до 37,5 °С, рвота 5–7 раз, жидкий водянистый стул 4–5 раз в сутки. На 3-й день болезни интоксикация нарастала, рвота прекратилась, сохранялся многократный жидкий стул желто-зеленого цвета. Дома принимал смекту, активированный уголь, но-шпу, мотилиум.
При объективном обследовании было выявлено: кожные покровы бледные, сухие, тургор кожи снижен; язык сухой, обложен коричневатым налетом. Дыхание несколько ослаблено, тоны сердца ритмичны: пульс – 98 ударов в минуту, артериальное давление – 135/80 мм рт. ст. Живот вздут, болезненный при пальпации в околопупочной области, в нижних отделах живота. Печень выступает на 3 см ниже реберной дуги, плотная безболезненная. Селезенка не увеличена.
В эпиданамнезе: за несколько часов до болезни ел сырые яйца, овсяную кашу, хлеб со сливочным маслом.
Пациент в течение 8–10 лет наблюдался у терапевта по поводу хронической ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. В течение 5 лет принимал лозап, карведилол, амлодипин, тромбоасс. В 2008 г. диагностирован сахарный диабет 2-го типа. Наблюдался у эндокринолога, принимал сахароснижающие препараты.
Диагноз при поступлении: сальмонеллез, гастроэнтеритическая форма средней тяжести. Сопутствующий диагноз: хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа субкомпенисированный.
В дальнейшем диагноз сальмонеллеза был подтвержден бактериологически (при посеве кала была выделена Salmonella Enteritidis) и серологически (РНГА с сальмонеллезным диагностикумом положительна в титре 1:200).
Общий анализ крови: лейкоциты – 7,2 × 109/л, СОЭ – 20 мм/ч, эритроциты – 4,5 × 1012/л, гемоглобин – 145 г/л. Общий анализ мочи без патологии. Копрограмма: наличие крахмала, клетчатки, мышечных волокон, слизи.
Были назначены регидратационная терапия (хлосоль 800 мл внутривенно капельно), антибактерильная терапия (цифран 500 мг внутрь 2 раза в день), регидрон, энтеродез, панкреатин, но-шпа. На фоне лечения наступило некоторое улучшение самочувствия, уменьшение тошноты, снижение температуры тела до 37,3 °С.
На 5-й день болезни (3-й день пребывания в стационаре) усилились боли в нижних отделах живота, вновь появилась рвота. Живот при пальпации болезненный в околопупочной области. Симптомы раздражения брюшины не определялись. Мочевина крови – 8,4 мкмоль/л, креатинин крови – 214 мкмоль/л, диастаза мочи – 64 ЕД, амилаза крови – 45 мкмоль/л, протромбиновый индекс – 95%, время кровотечения – 2 мин. ЭКГ: гипертрофия миокарда левого желудочка, единичные экстрасистолы.
По результатам консультации хирурга было высказано предположение о тромбозе мезентеариальных сосудов, и пациент был переведен в хирургический стационар.
Диагноз при переводе в хирургический стационар: сальмонеллез, гастроэнтеритическая форма, тяжелое течение (из кала выделена S. Enteritidis, РНГА с сальмонеллезным диагностикумом положительна в титре 1:200). Осложнение: тромбоз мезентериальных сосудов?
Проводили подготовку к диагностической лапароскопии. На 6-й день болезни сохранялись боли в животе, рвота. Живот резко болезненный при пальпации, выражено напряжение мышц брюшной стенки, определялись симптомы раздражения брюшины, отмечено падение артериального давления (60/40 мм рт. ст.), снижение диуреза, нарастание содержания в крови мочевины (12,8 ммоль/л) и креатинина (312 мкмоль/л), одышка, акроцианоз. Выявлено увеличение протромбинового индекса до 108% и уменьшение времени кровотечения до 1 мин, что подтверждало прогрессирование гемокоагуляционных нарушений у больного. Проводились реанимационные мероприятия: адреналин (1 мг/мин на 1 кг массы тела), дексазон (16 мг), кордиамин (2 мл внутривенно струйно на 20 мл физраствора), коргликон. При прогрессировании сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности наступил летальный исход.
Заключительный диагноз: тромбоз мезентериальных сосудов, декомпенсированная форма. Осложнение: перитонит.
Для гистологического исследования взяты ткани внутренних органов от трупа: головной мозг, легкие, почки, печень, поджелудочная железа, кишечник, миокард, селезенка.
Почка – полнокровие мозгового слоя, дистрофия эпителия.
Поджелудочная железа – полнокровие сосудов, гиалиноз артериол.
Тонкий кишечник – в отдельных препаратах определяется зона некроза кишечной стенки. По периферии зоны некроза отмечается демаркационное воспаление: расширенные полнокровные сосуды, инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами. В сосудах верхней брыжеечной артерии определяются фибриновые тромбы.
Печень – гепатоциты с элементами очаговой жировой дистрофии, диффузное разрастание соединительной ткани, «мускатная печень».
Сердце – участки полнокровия, очаговые и сетчатые разрастания соединительной ткани, выраженная гипертрофия и дистрофия кардиомиоцитов.
Селезенка – полнокровие, отек красной пульпы, диффузное разрастание соединительной ткани.
Головной мозг – полнокровие, незначительный отек.
Надпочечники – в сосудах клубочковой зоны определяются фибриновые тромбы с мелкоочаговыми кровоизлияниями и некрозами.
Патологоанатомический диагноз: тромбоз мезентериальных сосудов, некроз стенки тонкого кишечника, перитонит. Стенозирующий атеросклероз мезентериальных сосудов. Тромбоз сосудов надпочечников, некроз клубочковой зоны надпочечников. Венозное полнокровие внутренних органов: «мускатная печень», «шоковая почка».
У больного с сальмонеллезом при тяжелым течении инфекции на фоне обезвоживания возникает сгущение крови, нарушение микроциркуляции, сладж форменных элементов крови, формирование тромбов. Этому способствует также атеросклеротическое поражение сосудов. Все эти факторы приводят к формированию тромбоза мезентериальных сосудов, некрозу стенки тонкого кишечника, развитию перитонита, прогрессированию полиорганной недостаточности, что и является причиной летального исхода.
При ведении таких пациентов необходимо помнить о контроле показателей свертываемости крови, гемоконцентрации (гематокрит, удельный вес плазмы), а также необходимости адекватной регидратационной терапии и коррекции коагулограммы. Экстренная операция в хирургическом стационаре, возможно, позволила бы спасти данного больного.